![]() АБ
№ 7 - МЕЖ
НЕБЕСНЫМ И
ЗЕМНЫМ
АБ
№ 7 - МЕЖ
НЕБЕСНЫМ И
ЗЕМНЫМ
БРОДСКИЙ И
ШОСТАКОВИЧ
Елена
Петрушанская
В уже
достаточно
обширной
литературе
Бродского
принято
сравнивать
со
Стравинским. Исследователи-литературоведы
сближают их
по
нескольким
параметрам:
судьба
эмигранта,
получившего
мировое признание,
повлиявшего
на мировой
художественный
процесс,
окончательно
американизировавшегося;
интерес к
неоклассицизму,
к старым
моделям,
темам из
прошлого;
некая парадоксальность.
Как
отмечал сам
Бродский,
собственно
музыка
Стравинского
его не
увлекала.
Сближения
поэта со
Стравинским
есть лишь
внешние, а по
сути
случайные
подобия.
Впрочем,
не
привлекала –
даже, скорее,
раздражала
Бродского и
музыка
Шостаковича.
Так о чем же
статья, как
можно..? Но по
порядку (1).

В
начале 1964 года
состоялся
знаменитый
суд по делу о
тунеядце
Бродском. До
этого, и
вплоть до
встречи,
после
освобождения
обвиненного
из ссылки,
Шостакович
не знал поэта
лично. Вдова
композитора
Ирина
Антоновна рассказывала
мне, что он
впервые
услышал стихотворение
Бродского,
когда Борис
Тищенко
показывал
ему только
что
сочиненный «Рождественский
романс».
Наряду с
этим, фигурировала
скромная
подборка
ходивших
тогда в
«списках»
текстов
поэта; Ирина
Антоновна
переписала
некоторые.
Она говорит,
что Дмитрию Дмитриевичу
нравились
эти стихи.
Именем
Шостаковича
была
подписана
лояльная
телеграмма в
адрес суда.
Она гласила:
«Я очень
прошу суд при
разборе дела
поэта Бродского
учесть
следующее
обстоятельство:
Бродский
обладает
огромным
талантом.
Творческой
судьбой Бродского,
его
воспитанием
обязан
заняться
Союз
(подразумевается
– писателей).
Думается, что
суд должен
вынести
именно такое
решение (2)».
С 1962
года Дмитрий
Дмитриевич
нес
общественную
нагрузку
депутата
Верховного
Совета СССР
от
Ленинграда,
выполняя эту
работу с
совестливостью
и тщанием,
ему присущими.
К нему в 1965 году
обратились
родители Бродского:
после
освобождения
из ссылки Иосифа
не
прописывали
обратно в их
«полторы комнаты».
Александра
Ивановича
Бродского Шостакович
знал еще с
довоенных
времён, когда
тот работал
фотографом в
«Красной
газете», где
печатались и
статьи –
«отчеты»
самого Дмитрия
Дмитриевича,
и материалы о
нем, об исполнениях
его
сочинений.
Композитор
был глубоко
тронут
положением
семьи
Бродских и уж
конечно
заступился,
ходил с
просьбой к секретарю
обкома
Толстикову.
Вступился, правда,
не один
Шостакович –
главное,
вопрос был
решен
положительно.
Сам
поэт на
вопрос,
знаком ли
композитор
тогда был с
его
творчеством
и было ли оно
ему близко,
ответил в
указанном
интервью: «Не
думаю...
Скорее всего
это
произошло по
настоянию, по
просьбе Анны
Андреевны.
Она тогда
обратилась к
Шостаковичу,
к Маршаку,
по-моему. И
каким-то образом
они
выступили в
мою защиту. (...)
Единственный
раз, когда мы
с ним
виделись, был
в 1965 году,
кажется, в
ноябре; я
только что освободился.
Я был у него в
больничке в
Ленинграде,
где-то в
Песках. Помню
отчетливо,
что провел
два-три часа
с Дмитрием
Дмитриевичем,
но совсем не
помню, был ли
кто еще при
этой встрече (3),
каков был
Дмитрий
Дмитриевич?
Он метался в
кроватке,
чрезвычайно
похож был на
беспокойного
младенца в...
клетке,
коробочке,
как это? –
колыбели? Очень
нервный, с
невероятно
стремительными
реакциями, но
более-менее
нормальный...
О чем ещё шел
разговор?
Скорее это
касалось его
состояния,
моих
обстоятельств,
но в общем, и
сама беседа,
и все общение
было чрезвычайно
поверхностно.
Казалось, его
смущал наш
разговор; а с
моей стороны
это был
скорее знак
некоего
внимания,
признательности».
Характерно,
как
описывает
поэт через
тридцать лет
эту, скорее
вынужденную,
встречу, ее
достаточно
формальный
характер,
обоюдное,
судя по
всему,
смущение и
психологическую
«несостыковку».
Однако
важнее
мгновенный,
но
поразительно
точный и
глубокий
портрет
Шостаковича.
Гениальный
композитор похож
на чрезмерно
живого
младенца,
мечущегося (Бродский
словно
оговаривается,
но очень многозначительно)
в клетке.
Шостакович
оставил у
него
впечатление
тревоги,
какой-то неприспосабливающейся
к «взрослому»
миру незащищенности,
детскости, –
хрупких и
вызывающих
ощущение
неловкой
ранимости
качеств, зажатых
в жесткое
ограничивающее
пространство
– будь то
государство,
догмы
правящего режима,
поведения в
обществе,
страх за
жизнь близких
и свою,
боязнь
причинить
боль кому-то,
чувство
личной
несвободы,
болезнь.
Нетрудно
ощутить, что
музыкальный
мир
Шостаковича
поэту не
близок – как, в
общем, «ко
всей современной
музыке» он
относился
«чрезвычайно сдержанно».
«Сдержанно»,
(тут он напел
мне какой-то
произвольный
«мотив», –
разного,
разбросанного
по регистрам
рисунка) – «мне
это просто не
нравится. Но
что делать,
уж так я
устроен».
Впрочем,
некоторое
отторжение
от
музыкальной
современности
было свойственно
интеллектуальным
кругам, где
бывал поэт:
эти
остросовременно
чувствующие,
действующие
и пишущие
люди были
гораздо более
любителями
старинной
музыки и
джаза, который,
по признанию
поэта
Евгения
Рейна, и «был
для нас
главной
музыкой».
Чрезвычайно
чуткое и
ответственное,
даже бескомпромиссное
отношение к
СЛОВУ сформировалось
у поэта очень
рано.
Поэтому, думаю,
его
отторгали от
Шостаковича
отдельные
словесные
высказывания,
композитору
приписываемые
или вынужденно
принадлежащие,
главное, его
как поэта
коробили
некоторые
стихотворные
тексты,
взятые
Шостаковичем
для
музыкальных
сочинений.
«Разность»
Шостаковича
и Бродского
очевидна. И
всё же
небезынтересно
сопоставить
некоторые
ведущие темы,
аспекты их
творчества.
Исследователи
одной из
основных у
Бродского
называют
тему Времени.
Внимание к
времени
проявляется
в нескольких
плоскостях: к
свидетельствам,
увлечениям и
заблуждениям
своего
времени, к
многослойным
следам
прошлых
времен, к
временным
процессам, к
организации
временного
восприятия
стихотворения.
Все
богатство
оттенков
отражается в
языке,
невыразимо
индивидуальном,
но, как ни у какого
другого
русскоязычного
поэта, способного
к смешению и
взаимокомментированию
тончайших
оттенков
лексики
разных
пластов и периодов
– что рождает
объемную,
словно стереоскопическую,
развернутую
во времени картину.
Образ
человечества,
пришедшего к
грани
тысячелетий,
у поэта
связан с
переходным,
«промежуточным»
пунктом
между
пространством
и временем, с
представлением
о
полуострове (меж
небесным и
земным,
зверским и
божественным):
«Человек есть
конец себя и
вдается в время».
Время
– одна из
важнейших
категорий и
для Шостаковича.
Непрерывность
и интенсивность
«проживания»
времени в
сочинениях
композитора
обусловлена
суммой
музыкальных
приемов,
среди
которых
особо важен
принцип
цепной
взаимосвязи
в свободно
саморазвивающихся
мелодических
линиях. Те же
закономерности
действуют в
развертывании
поэтической
ткани у
Бродского.
То, что
фиксируют
как факт литературоведы
– в текстах
Бродского
невозможно
переставлять
местами
строфы, что вполне
возможно в
творчестве
многих других
– находит
свое
объяснение с
точки зрения
музыкальной
логики.
Поэтическое
повествование
строится по
закономерностям,
сходным с методом
разработочного
развертывания
либо вариантного
развития,
вплоть до
контраста,
ведущего
образа –
принципами,
столь свойственными
Шостаковичу.
Вариантное и
разработочное,
с
«прорастаниями»
развитие у
Шостаковича
близко
принципу
раскрытия,
разворачивания
одной
метафоры на
протяжении
длинного стихотворения
у Бродского.
Роль
образа
Времени как
важнейшего
персонажа и
формо- и
стилеобразующего
элемента поэтики
сказалось во
многом. Здесь
и особое
внимание к
обобщенным и обобщающим
музыкальным
и
поэтическим
размышлениям
о «конце эпох»,
тысячелетий;
богатство
языка и форм
воплощения
содержания, суммирующее
достижения
предшествующего
времени; –
общее,
обнимающее
творчество
этих
художников,
настроение
элегической,
временами едкой
и
пронзительно
мудрой
прощальной
грусти,
предпочтение
жанра и тона
мемориала.
В
творчестве
молодого
Шостаковича
особенно
явно
чувствовалась
открытость
стилям и
влияниям,
свободное
оперирование
моделями
многих
музыкальных
языков –
масса стилей
и жанров всей
истории
музыки, с
которой
композитор явно
не
«церемонится»,
чувствует
себя на равных.
Подобная
естественная
погруженность
в историю,
общекультурный
широчайший
интертекст
свойственны
и Бродскому.
Его стихотворное
повествование
насыщено
обращениями
к разнообразным
как
литературным,
так и музыкальным
сочинениям, а
также к
связанным с музыкой
реалиям и
«кодам».
Такими в
«Мексиканском
дивертисменте»
стали
упоминания
песни
Бетховена
«Мой сурок»
(бывшей в
среде выезжающих
в поездки за
границу
«шифром»,
обозначающим
прикрепленного
стукача).
Требует разъяснения
и строчка из
большого
философского
стихотворения
«Вертумн»:
«...В
прошлом
ветер
до сих
пор
будоражит
смесь
латыни
с глаголицей
в голом
парке:
жэ, че,
ша, ща плюс
икс, игрек,
зет,
и ты
звонко
смеешься:
“Как говорил
ваш вождь,
ничего
не знаю лучше
абракадабры”».
Усваивая
уроки
любимого им
Гайдна (о чем
сказано им в
интервью),
Бродский
модифицирует
концовку
фразы, давно
ставшей
клише: «Ничего
не знаю лучше
“Аппассионаты”».
Трудно представить
более емкую
сентенцию,
чем «перелицовка»
цитаты
Бродским. Мне
она
напоминает о
молодом
Шостаковиче,
в частности,
о его Первом
фортепианном
концерте.
Став руководством
к действию,
ленинское
изречение
прямо
направило
советскую
культурную
политику, что
привело к
засилью
бетховенской
музыки в Республике
Советов, но
лишь
нескольких
угодных
произведений,
«близких
революционному
духу
пролетариата».
Лидировала
«Аппассионата».
И в среде
музыкантов
родилось
опасное
выражение-перевертыш:
«ничего не
знаю, кроме
“Аппассионаты”»,
которое
относили,
разумеется,
не только к
музыке.
Поэтому
особой дерзостью
Шостаковича
в первой
части
Первого фортепианного
концерта
представляется
остроумное,
смелое – и
трагическое
по смыслу –
стилевое
переинтонирование,
доведение до
абсурда
знакомых
элементов
бетховенской
сонаты.
Недаром
строгий,
консервативный
А.Б.Гольденвейзер
считал
бетховенские
аллюзии в
этой музыке
«возмутительными».
Снижая,
вульгаризируя,
открыто
осмеивая ее
основные
образы и в то
же время
«сквозь смех»
оплакивая невозвратность
пафосного
героизма,
композитор
словно
говорит:
герой-борец
бетховенской
мощи умер,
потонул в
постреволюционном
соглашательстве,
лжи,
пошлости,
обывательщине,
воистину
автор «ничего
не знает лучше
абракадабры»...
В том
же концерте
Шостакович свободно
оперирует
«перебивками»,
перекличками
музыкально-языковых
модусов
разных
«ярусов» –
возвышенным
штилем,
низовыми вульгаризмами,
бульварно-городским
фольклором,
«кабацкими»
интонациями,
неоклассицистскими
оборотами –
освещенными
собственной
интонацией,
собственным
стилем и
линией
повествования.
Такое
лексическое
многоголосие
близко
Бродскому,
для которого
также, пользуясь
его
характеристикой
по отношению
к высоко
ценимому им
американскому
поэту Марку
Стрэнду,
столь важна
«чистая
энергия языка,
прущая
сквозь клише,
психологизмы,
психоаналитическую
болтовню,
литературное
жеманство,
научный
жаргон – что
угодно, – за
грань абсурда,
за грань
здравого
смысла, к
радости читателей».
В
обостренно-суперреалистической
форме, уже
скорее
близкой по
тону самым оскаленно-озверевшим
симфоническим
шостаковическим
скерцо, это
воплощено в
«Представлении»:
«Входят
строем
пионеры, кто –
с моделью из
фанеры,
кто – с
написанным
вручную
содержательным
доносом.
С того
света, как
химеры,
палачи-пенсионеры
одобрительно
кивают им,
задорным и
курносым,
что
врубают
"Русский
бальный" и
вбегают в
избу к тяте
выгнать
тятю из
двуспальной,
где их сделали,
кровати.
Что
попишешь?
Молодежь.
Не
задушишь, не
убьешь».
Поэт
действительно,
в духе
булгаковского
призыва,
мастерски
«урезал марш»:
и предстала
усеченной,
абсурдно-зловеще
переосмысленной
цитата из
популярного
«Гимна
демократической
молодежи
мира». Автору
«Антиформалистического
райка» чрезвычайно
близок
горький,
собственной
шкурой
испытанный
яд
исторической
панорамы, развернутой
в творении
Бродского;
однако,
композитор, будучи
не свободным
в
высказывании,
а творя
«изнутри»
советской
действительности,
гениально
использовал
неистщимую
силу музыкального
языка, столь
гибкого в
иносказаниях.
Похожие
шествия
словно бы
бодрых, мужественных
сил,
незаметно
соскальзывающих
в недобро-наступательные,
встречаем у
Шостаковича.
И тут многое
зависит от
темпоритма
исполнения.
Вопрос о
невероятно
быстрых темпах
в отдельных
частях
симфонических
и концертных
циклов
Шостаковича
вновь заставляет
сопоставлять
его с
Бродским.
Обычно
подобные шостаковические
вихревые
скерцо полны
мощной
наступательной
агрессивной
энергии. Их
традиционно
называют
«злыми
скерцо», где буйствуют
опасные
«адские»
разрушительные
стихии. Здесь
царствует, на
мой слух,
идея «предупреждающего
искусства» о
чреватом
катастрофой
внешнего и
внутреннего
разрушения человечества
сверхчеловеческом
УСКОРЕНИИ, о
которой
говорил в
интервью и
Бродский. В
Ускорении
(«которое
возникло в
сороковые годы,
в ходе войны»)
он услышал
«...явление
пророческое.
...Пророчество,
если хотите,
атомной бомбы.
Это полный
распад всего
и вся... Чистая агрессия,
чистый ритм
или чистая
аритмия (ибо
нет точек
опоры). Это
обесчеловеченность
– когда
сознание не
соответствует
движению...».
Художник
способен
воспринимать
течение
времени
заостенно:
невероятно
спрссованно,
безумно
быстро, либо
как бы растворяться
во временном
потоке,
смакуя каждый
момент, – ибо
открыт
озарению во
время длительной
напряженной
концентрации.
Подобно
склонности
позднего
Шостаковича
к длительной
погруженности
в медленные
темпы
непрерывного
глубокого
размышления,
(без всякого необходимого
«темпового
контраста»),
зрелый
Бродский
способен к
чрезвычайно
медленному,
внимательному
рассмотрению
– размышлению
о предмете,
явлении.
Особое
мужество и
поэта, и
композитора
не в фактах
личной
судьбы (не
только в них),
а в
последовательном,
честном,
совестливом
«упорстве
додумывать
мысли до
конца, потому
что никто
вокруг не
имеет желания
тратить на
это время»
(М.Бараш). Так
же с годами
они оба все
более ценят
правдивость
и ценность
интонации
монотонии,
отражающей
безжалостный
ход времени,
его все
приближающиеся
«отрезающие
ножницы», грозящие
прервать
личную
земную и
общечеловеческую
судьбу.
Юношеское
иосифовское
«советую вам
маятником
стать»
постепенно воплотилось
в словно бы
объективный,
каталогизирующий
встречные
явления,
сдержанный
тон высказывания
– тон, за
которым
скрыт
глубокий трагизм
и глобальное
одиночество
художника.
Вероятно,
склонность
Шостаковича
к сгущенно-печальным,
«суперминорным»
ладам (и в строго
терминологическом
значении, и в
образно-поэтическом
смысле слова)
является, как
и у Бродского,
следствием
трагичности
и некоей
мизантропией,
возникшей в
результате
разочарования
в человеке
как существе,
стремящемся
к добру и
моральному
существованию,
– а также
пристальной,
как бы
научной
честности в
размышлениях
о смерти.
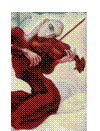
Небывало
внимательное,
трезвое,
мужественное
отношение к
Смерти,
склонность к
разностороннему
рассмотрению
этой темы
роднит
художников.
Конечно, она
переплетается
с темой
Времени, подобно
тому, как в 1-й
части Второй
фортепианной
сонаты
Шостаковича
поток
неостановимо-неумолимого
бега
пульсирующих
шестнадцатых
– секунд
проживаемых
жизней –
постоянно
контрапунктически
соединяется
с кукушечными
мотивами,
вариантно
меняющимися,
но остающимися
зовами
Смерти. Как и
Шостакович,
Бродский
смолоду
невероятно
остро
чувствовал,
что тема эта
не столько
«то, что
бывает с
другими»:
«смерть – это
тот кустарник,
в котором
стоим мы все».
Они – блестящие,
в тонкостях
знавшие
могучие
традиции,
мастера проникновения
в Ars moriendi –
«искусство
умирания», а
главное,
преодоления
его
симптомов в
собственном
творчестве. В
мировоззрении
обоих
ощущается
отсутствие
успокаивающих
слабых людей
иллюзий перед
лицом КОНЦА
(еще одной –
апокалиптической
– важной темы,
внятно
заявленной у
поэта и
чувствующейся
в общей
атмосфере
музыки
Шостаковича).
Осознание
рая как
тупика
индивидуальности,
человечности,
а ада – как
чрезмерной
концентрации
ЛИШЬ людских,
без просвета
божественного,
качеств
свойственно
зрелому
Бродскому. Вероятно,
с этим
согласился
бы и
Шостакович.
Отсюда
– мощная
яркость в
художественном
проживании,
впитывании и
пропускании
чрез себя
всего
богатства
жизни,
широчайшего
круга
явлений,
жанров,
стилей.
Однако,
«свойство
всемирной
отзывчивости»
здесь проявляется
не столько (и
не только) в
гениальной
восприимчивости
и
способности
к
изменчивости,
как, скажем, у
Стравинского,
а скорее с
акцентом на
последнем
слове, в его
по-русски страдательно-сочувствующем
значении. С
другой
стороны, от
острого
чувства
конечности и
малости
своего
существования
перед лицом
истории и
Господа – и
весьма
сильная самоирония,
беспощадно
трезвое, до
самоуничижения,
отношение к
себе, тот
покаянный,
близкий
псалмодическому,
тон, что
слышен
особенно в
поздних
произведениях
художников.
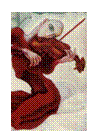 Впрочем,
нанизывать
подобные
сравнения можно
долго. Они
проявляются
на уровне
творческого
мировоззрения,
элементов
художественного
мышления,
поэтики, в
отдельных излюбленных
жанрах,
приемах,
формах. Укажу
на некоторые
существенные,
на мой
взгляд, сближающие
Шостаковича
и Бродского
«узлы»,
«сгустки» внимания
к
интересовавшим
обоих темам.
Впрочем,
нанизывать
подобные
сравнения можно
долго. Они
проявляются
на уровне
творческого
мировоззрения,
элементов
художественного
мышления,
поэтики, в
отдельных излюбленных
жанрах,
приемах,
формах. Укажу
на некоторые
существенные,
на мой
взгляд, сближающие
Шостаковича
и Бродского
«узлы»,
«сгустки» внимания
к
интересовавшим
обоих темам.
Это
сердечно
волновавшая
тема –
мифологема
Петербурга –
Ленинграда.
Оба родились
и жили «в
городе цвета
окаменевшей
водки», совсем
по-разному,
но
расстались с
ним, как с безвозвратной
юностью и
красотой.
Тесно связано
с этим
ощущением
утраты
родной
«упругой
ветки» (будь
то круг
любимых
людей,
родина, собственные
идеалы)
желание,
напротив, прочно
связать себя
в творчестве
преемственностью
традиций,
приемов,
используемых
форм.
Это
тема
зоркости и
непримиримости
к пошлости,
во всех
проявлениях.
Оба
осознавали слишком
ясно, что
«пошлость
человеческого
сердца
безгранична»,
и безмерно
тосковали об
этом. Как у
совсем
молодого еще
не битого жизнью
Бродского,
так и у юного
композитора сквозь
фантастическую,
дерзкую
насмешку над
пошлостью
слышна
сострадательная
боль. «Поле»
ощущаемых
как пошлость
явлений раскинулось
в нашей
действительности
воистину
широко, а в
деталях
могло
ощущаться художниками
по-разному.
Если для
Шостаковича,
к примеру,
олицетворением
потребительски-обывательского
продажного
духа был
мотивчик «Купите
бублички»
(как во
Втором
виолончельном
концерте), то
у Бродского
блатная,
одесского
разлива
«экзотика» не
кажется
столь угрожающей.
С
«приблатненными»
интонациями
говорила и
думала вся
страна;
напротив, в
«блатной» песне
и говоре даже
своеобразно
воплотилась,
с далеко
ведущими
искажениями,
романтика
непокорности,
сопротивления
властям и сковывающему
уставу. А
подтекстованное
фольклорными
строками
аргентинское
танго «Эль Чокло»
(по-русски
превратившееся
в гимн «криминальных
элементов» –
«На
Дерибасовской
открылася
пивная»)
создаёт ритм
и особый
смыслово-психологический
контрапункт
стихотворения
об иной
«знойной»
криминальной
жизни
(«Мексиканский
дивертисмент»):
«В ночном саду
под гроздью
зреющего
манго
Максимильян
танцует то,
что станет танго.
Тень
возвращается
подобьем
бумеранга,
температура,
как под
мышкой,
тридцать
шесть. (...)
В
ночной тиши
под сенью
девственного
леса
Хуарец,
действуя как
двигатель
прогресса,
забывшим
начисто, как
выглядят два
песо,
пеонам
новые
винтовки
выдает».
На
вопрос о том,
что является
для него
враждебным
музыкальным
«знаком»,
звуковым
образом
пошлости,
Бродский
отвечал:
«Если раньше существовал
такой
внятный враг
в виде отечественной
официальной
культуры, то
теперь враг
повсеместен.
На него
натыкаешься
на каждом
шагу: это весь
этот грохот,
грохот
«попсы». Весь
этот «музак»... Можно
много чего
увидеть
здесь, задуматься
о
дьявольском
умысле...» (из
неопубликованного
интервью).
Более
актуальным и
опасным, в
его
понимании,
стал вал
массового
идиотизма
массовой
электронной
музы,
лишенный
сдерживающих
центров.
Однако,
по иронии
судьбы,
пошлость
преследовала
обоих гениев
земли нашей и
при жизни, и
после смерти.
Естественно,
что бытие
таких
величин рождает
«парадоксы
восприятия».
Как и прежде,
истинное
величие их
творческих
подвигов в
основном
осознать
недоступно. А
байки, сплетни,
анекдоты,
всевозможные
домыслы вокруг
великих
фигур так и
вьются.
Шостакович,
всю жизнь
стремившийся
к правде и
точности, как
по
таинственному
наваждению,
окружен различными
мифами и
спекуляциями.
Да и «как будто
в отместку за
то, что
Бродский всю
свою жизнь
стремился
избегнуть
мелодрамы, мелодрама
его
преследовала»
(4).
Хорошо
бы во внешне
не столь
оправданных,
но внутренне
существенно
важных
сопряжениях
миров художников
избегнуть
этого греха.
_______________________________________________________________
(1)
Материалом
служит не
только
анализ творчества,
размышление,
воспоминания,
но и такой
ценный
фактический
материал, как
интервью
самого поэта
о музыке,
данное мне в
марте 1995 года
(неопубликовано).
(2)
Цитируется
по
публикации в
журнале
«Юность», 1989, № 2, с. 84.
Сейчас
непросто
оценить
дипломатический
ход
Шостаковича,
предлагающего
переложить
«воспитание»
Бродского на
Союз
писателей,
тогда же это
была мудрая
уловка для
того, чтобы
трансформировать
подсудное
«дело» в
задачу
«осуждения»
поэта общественными
организациями,
а не
правоохранительными
органами.
Перед нами
свидетельство
лишь об одном
заступничестве
композитора за
несправедливо
преследуемого
властями
человека,
однако сколь
оно
красноречиво...
(3) При
встрече на
самом деле
присутствовали
Ирина
Антоновна и
поэт Евгений
Евтушенко.
(4)
В.Полухина.
Миф поэта и
поэт мифа
(Литературное
обозрение. 1996, № 3, с. 44): «Melodrama was courting me with the
tenacity of Romeo». («Мелодрама
преследовала
меня с
настойчивостью
Ромео», –
признавался
Бродский в
интервью с D.Bothoa.)